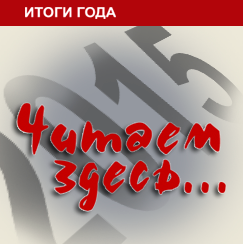Пиррова победа
Пиррова победа

Напомним, что инициатором передачи Рязанского кремля в ведение церкви стала Рязанская епархия, с подачи которой в феврале 2006 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II обратился с письмом к президенту В.В. Путину. Вскоре начальник одного из управлений Росимущества потребовал, чтобы музей просто убирался подобру-поздорову.
В защиту кремля выступили известные ученые и общественные организации, больше двадцати тысяч жителей Рязани также выразили свой протест. Но власти проигнорировали мнение общественности.
 Заслуженный
работник культуры России Людмила Максимова, проработавшая в музее 44
года, оказалась выброшенной на улицу за то, что не согласилась с
фактическим уничтожением музейного комплекса. Формулировка главы
Роскультуры звучит более чем сомнительно, ведь музейщики шли на
разумный компромисс с РПЦ. И подавляющее большинство храмовых построек
на территории кремля уже переданы Рязанской епархии. «Камнем
преткновения стал памятник, который Росохранкультура не считает
объектом религиозного назначения – Дворец Олега. Это одно из знаковых
зданий для Рязанского кремля, основной экспозиционный корпус и основное
фондохранилище. Потеря даже части его создает угрозу стабильного
функционирования музейного комплекса. Подписание подобного акта стало
бы началом ликвидации музея-заповедника как музея под открытым небом и,
в лучшем случае, вопросом перевода его в статус рядового краеведческого
музея», – говорится в заявлении ученого совета музея-заповедника.
Заслуженный
работник культуры России Людмила Максимова, проработавшая в музее 44
года, оказалась выброшенной на улицу за то, что не согласилась с
фактическим уничтожением музейного комплекса. Формулировка главы
Роскультуры звучит более чем сомнительно, ведь музейщики шли на
разумный компромисс с РПЦ. И подавляющее большинство храмовых построек
на территории кремля уже переданы Рязанской епархии. «Камнем
преткновения стал памятник, который Росохранкультура не считает
объектом религиозного назначения – Дворец Олега. Это одно из знаковых
зданий для Рязанского кремля, основной экспозиционный корпус и основное
фондохранилище. Потеря даже части его создает угрозу стабильного
функционирования музейного комплекса. Подписание подобного акта стало
бы началом ликвидации музея-заповедника как музея под открытым небом и,
в лучшем случае, вопросом перевода его в статус рядового краеведческого
музея», – говорится в заявлении ученого совета музея-заповедника.Борьба за сохранение музея-заповедника еще не окончена. Но, судя по всему, осада Рязанского кремля не продлится долго, дни защитников крепости сочтены.
Увы, не в первый раз мы наблюдаем за тем, что попытка воспрепятствовать культурному самоубийству страны наталкивается на противодействие российского официоза. Правительственные чиновники оказывают давление на защитников культурных ценностей в их борьбе с клерикалами и стоящими за их спинами бизнес-структурами. И это давление напрямую связано с политическими процессами в стране. По мере огосударствления церкви, превращения ее в «ведомство православного исповедания» число бюрократов, якобы радеющих о ее интересах, растет. Другое дело, насколько церковны эти интересы в принципе.
И здесь уже возникают совсем другие, стратегические вопросы. Понимают ли религиозные лидеры, что подобные действия нацелены на разрыв исторически сложившегося, но ставшего в последнее время столь хрупким единства Русской православной церкви и отечественной культуры? Что важнее для Церкви (с большой буквы) – получить в собственность пусть и дорогие, но все же камни или сохранить доброе имя среди соотечественников? Может быть, для Церкви лучше ютиться в маленьких храмах и даже в квартирах, и делать Христово дело, как это было в эмигрантском Париже? Конечно, и внешние символы (храмы, монастыри, чтимые иконы) тоже важны. Но всему, видимо, должна быть своя мера. Тем более что есть примеры нормального сосуществования церкви и музея под одной крышей. Скажем, храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галереи являет собой уникальный образец сотрудничества РПЦ и музейщиков. Здесь совершаются богослужения, верующие имеют возможность молиться перед чтимыми иконами. И в то же время сюда приходят посетители галереи – как в один из музейных залов. Интересно, что культурная составляющая влияет на духовную жизнь прихода, и, как видится, в лучшую сторону. Скажем, в храме раз в год исполняется «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова.
В качестве примера добрых отношений можно привести Новодевичий монастырь в Москве и Николо-Зарецкую церковь в Туле (она является частью музея «Некрополь Демидовых»).
У музеев и церкви широкое поле для сотрудничества. Но его плодотворному развитию мешают проблемы, связанные с собственностью. Часто борьба за собственность не имеет никакого отношения к реальным нуждам Церкви. Религиозные менеджеры преследуют меркантильные цели, и одержанные ими «победы» отталкивают нормальных людей от церковной ограды.
В конечном счете, оценка деяний церковных руководителей внутри церковной ограды упирается в проблемы экклезиологии – богословского понимания того, что же такое Церковь, то есть прежде всего в вопросы, связанные с устройством жизни общин и приходов и с их деятельностью, в том числе и в «мире сем». Упирается и в само видение Церкви церковными руководителями (к сожалению, зачастую оказывающимися и в светском, и в церковном смысле безграмотными) и мирянами. Опыт показывает, что консолидированного церковного ответа на «экклезиологический вызов» сегодня нет.