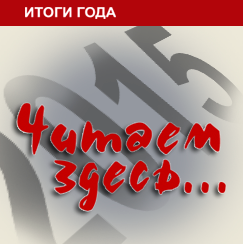Идеологическая гидра XXI века
Идеологическая гидра XXI века

Термина «исламофобия» в академических словарях нет. Но отсутствует он там не оттого, что явления нет в действительности, а потому, что дать определение ему пока еще достаточно сложно. Будучи впервые использован в 1997 году в докладе британского центра Runnymede Trust «Исламофобия – вызов для всех», это слово неожиданно пришлось ко двору, упредив новые реалии «мира после 11 сентября».
Однако если в существовании исламофобии и ее негативном воздействии на общественное сознание, социальные и политические процессы никто не сомневается, то определяет ее для себя каждый сам, кто во что горазд. Не говоря уж о том, насколько затруднителен поиск способа преодоления проблемы, сама природа которой остается пока предметом споров. Эти обстоятельства и сподвигли организаторов круглого стола в правозащитном Центре имени А.Д. Сахарова (среди них Московская Хельсинкская группа, интернет-издание «Портал-Credo», Институт свободы совести и т.д.) взглянуть на исламофобию с разных точек зрения и, продравшись сквозь дебри разночтений, попытаться выйти к некоему общему знаменателю.
Обсуждение, надо сказать, удалось. Потому что за само собой разумеющейся этимологией термина «исламофобия» — понимаемой как комплекс иррациональных страхов, связанных с понятием ислама и исходящих извне этой авраамической религии — обнаружились весьма интересные детали, которые благополучно упускаются из внимания обывателем.
Это, например, такой парадоксальный феномен, как «исламофобия внутри мусульманства», на признаки чего обратил внимание руководитель Ассоциации международного сотрудничества «Время и мир» Валерий Емельянов. Тот факт, что в мусульманстве нет централизованной иерархии, что в одной лишь России, кроме нескольких независимых Духовных управлений, мусульманских организаций не просто много, но и все они имеют принципиально разную религиозно-культурную природу, нельзя назвать общеизвестным. Для сопоставления авторитета отдельного уважаемого имама с заведомым авторитетом джамаата и высшим Авторитетом для каждого из миллионов абсолютно равноправных в религиозном смысле мусульман, логические представления европейца о иерархии абсолютно непригодны. Потому что если джамаат (коллективное сознание мусульманской общины) регламентирует все стороны жизни верующего мусульманина, включая общественно-политические ориентиры, то мнение, например, какого-либо руководителя Духовного управления, зарегистрированного в государственных структурах, воспринимается только как его личная декларация.
Однако легитимные религиозные организации вынужденно участвуют в политических процессах и, будучи зависимыми от властей, часто проводят политику, не совпадающую с одобряемой джамаатом. Тогда, чтобы поддерживать уровень своей значимости в умме, такие организации (или отдельные лидеры) могут при содействии власти оказывать давление на джамаат, «уличая» его в «несоответствии исламу». Таким образом, верующие мусульмане, неугодные власти и сотрудничающей с ней религиозной организацией обвиняются, к примеру, в «ваххабизме» и объявляются преступниками на основании того, что при обыске у них обнаружены тексты из... Корана! В результате между приверженцами джамаата и легитимными религиозными функционерами возникает острая настороженность, по существу ничем не отличающаяся от исламофобии, которую испытывают по отношению к мусульманам многие инаковерующие.

По мнению члена Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслана Кутаева, скорость распространения исламофобии в России во многом следствие «четко спланированной политической акции, последовательно раскручиваемой властью. Начавшись с антикавказской кампании, эта акция переросла теперь в антиисламскую». Рост антиисламских настроений в обществе в большой степени объясняется тем, что многими используются понятия, смысл которых людям просто неясен. Это светский ислам, исламизм, исламский терроризм, традиционный ислам, ваххабизм и так далее. Неясность при этом, как и полагается, пугает, потому что в эти термины облекаются часто абсолютно иррациональные страхи, связанные с общим социальным и политическим неблагополучием общества. Ведь, согласно опросам социологов, ислам неразрывно связывается с терроризмом примерно у половины респондентов, не видящих разницы между религией и сугубо политической тенденцией.
С точки зрения заместителя руководителя сектора Кавказа ЦЦРИ РАН философа Энвера Кисриева, проявление исламофобии — всего лишь логичное следствие гораздо более глубоких процессов. С середины XIX века наше общество в целом приобретало новые качества, когда религия вытеснялась светской идеологией и перестала выполнять функции связующего и мобилизующего начала, уступая место социальным учениям — марксизму, социализму, либерализму и т.д. Но сегодня, в условиях глубокого кризиса светских социальных идеологий, когда, по сути, все они дискредитированы, общество вновь обращается к религии как той социальной идеологии, которая способна стать средством социальной мобилизации. Именно это, по мнению Кисриева, и есть «самое ужасное, самое чудовищное, что сейчас происходит. Потому что последствия этого процесса могут оказаться поистине страшными. Потому что власть занимается этим, и не может не заниматься, так как это - идеология. Как может власть игнорировать проблемы социальной связей и мобилизации?» То же самое происходит и на Западе, где все светские идеологические системы тоже рушатся, сползая к религиозным обоснованиям. Просто в России это приобрело гораздо более острые формы, нежели в цивилизованных странах. Власть «опрокидывается в религиозную проблематику», обращается к религиозно окрашенным идеологическим рычагам, потому что ей нужны «ресурсы для манипулирования обществом». «Когда мы нападали на Чечню, — иллюстрировал это явление Кисриев, — то Дудаев ничего не говорил о религии. Он декларировал демократию, свободу своему народу, то есть он использовал светский идеологический арсенал. Но, какой светской идеологией можно было оправдать для русских солдат войну и истребление своих недавних соотечественников? Такой идеологии не существует, но солдат нужно было мобилизовать, и тогда возникала антикавказская, а затем антиисламская идеология, основанная на «чуждости веры», «чуждости ценностей», которая и сплачивала их, становилась залогом их боеспособности».
Когда общество организовано светской идеологией, то «человек всегда может изменить свои предпочтения, — говорит Кисриев. — Сегодня он марксист, как, скажем, Александр Яковлев, а завтра - либерал. Это не грешно. Но когда идеология и религиозные обоснования соединяются воедино, то мы получаем могущественную силу, так как религия опирается на столь глубинные основания человеческой ментальности, что так просто поменять их, как светские, человек не может». В результате власть, общество и все остальные участники процесса, «подогревая друг друга», образовывают некий замкнутый круг по подобию вечного двигателя, который «вряд ли возможно остановить интеллектуальным способом».
 Параллельно этому процессу идет и деактуализация собственно религиозной функции религии. Ведь группы власти «перепрофилируют» в идеологию не только ислам, но и иные религиозные доктрины, что очень облегчает традиционная связь крупных религиозных организаций со спецслужбами. Тогда и превращение в России православной религии в государственную идеологию естественно включает в себя использование исламофобии. Однако православная религия существенно «проигрывает» исламу в плане удобства для использования ее властью в качестве инструмента социальной мобилизации. Специфика православия в этом смысле отличается от исламской. Если брать Россию, то для «русского-православного» его религиозность (иногда мнимая) и прочие стороны жизни существуют сами по себе, тогда как для мусульманина любой национальности само его мусульманство и есть регламент всего мировосприятия и поведения. То есть не имеющий никаких изоляционистских «комплексов» ислам в максимальной степени пригоден к использованию в качестве универсальной «цементирующей» идеологии.
Параллельно этому процессу идет и деактуализация собственно религиозной функции религии. Ведь группы власти «перепрофилируют» в идеологию не только ислам, но и иные религиозные доктрины, что очень облегчает традиционная связь крупных религиозных организаций со спецслужбами. Тогда и превращение в России православной религии в государственную идеологию естественно включает в себя использование исламофобии. Однако православная религия существенно «проигрывает» исламу в плане удобства для использования ее властью в качестве инструмента социальной мобилизации. Специфика православия в этом смысле отличается от исламской. Если брать Россию, то для «русского-православного» его религиозность (иногда мнимая) и прочие стороны жизни существуют сами по себе, тогда как для мусульманина любой национальности само его мусульманство и есть регламент всего мировосприятия и поведения. То есть не имеющий никаких изоляционистских «комплексов» ислам в максимальной степени пригоден к использованию в качестве универсальной «цементирующей» идеологии.
По мнению председателя ДУМ Азиатской части России шейха Нафигуллы Аширова, развитию исламофобии в России в огромной мере помогает крайне низкий уровень общественного и государственного правосознания и практики правоприменения. Кроме того, «грань между неприятием к мусульманам и неприятием к людям другой национальности в России сегодня трудно провести, — отметил Аширов. — В нашем обществе искусственно взращивается идея русского шовинизма. В первую очередь, это делается не без подачи и попустительства властей. …Известные всем взрыв мечети в Яхроме или целенаправленные антиисламские провокации во время Рамазана признаются просто хулиганством. В газетах систематически акцентируется внимание на национальной и религиозной принадлежности преступников, порицание по национальному признаку общепринято и широко практикуется в быту». Ни органы охраны правопорядка, ни судебная система практически не реагируют адекватно на уголовные преступления в отношении мусульман и на административные нарушения со стороны органов власти. Получается, что на практике мусульмане как бы отделены от остального общества, поставлены в условия заведомо подозреваемых, что только укрепляет исламофобию. И конечно же это становится причиной ответного недоверия к власти и закону со стороны самих мусульман, что неудивительно.
Вероятно, не имеет смысла доказывать, что уровень коррупции в правоохранительной и судебной системах России до неприличия высок. Этот факт признают сегодня даже высокие государственные чиновники. Однако каков может быть выход, если правовые гарантии граждан в стране не обеспечиваются, закон не соблюдается и незащищен? По мнению шефа аналитического интернет-издания «Портал-Credo» Александра Солдатова, таким выходом могло бы стать апеллирование россиян к нормам международного права и международным судебным организациям. Правда, декларативные функции Европейского суда по правам человека в международном праве не снабжены реальными санкциями, которые делают решения суда действенными. Однако вполне вероятно, что при нынешней скорости развития событий создание новых прецедентов обращения к нормам международного права подействует гораздо быстрее.
Начавшийся в середине дня круглый стол шел без перерыва до позднего вечера. Вопросы поднимались самые разные (материалы круглого стола вскоре предполагается опубликовать полностью), но уже сейчас можно сказать, что проблема исламофобии, которую и без того мало кто воспринимает легкомысленно, оборачивается гораздо более серьезными последствиями, нежели можно было представить себе еще совсем недавно.