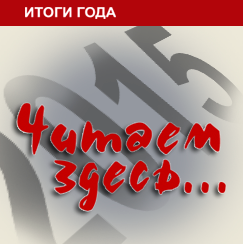Диомид как средство обольщения
Диомид как средство обольщения
 Общественность взбудоражена очередным письмом епископа Диомида. Замечу, что, в основном, не православная общественность, которой по идее и полагалось бы быть взбудораженной (она лучше понимает цену подобным посланиям), а светские СМИ, снова всерьез перечисляющие выдвинутые Диомидом и братией обвинения в адрес Русской православной церкви. Обвинения все те же. Правда, чуть более распространенные. Как водится, осуждается экуменизм: "стремление объединить все веры в одну религию", как говорится в письме. Чукотские батюшки просят также Алексия II "более решительно и конкретно обличать пороки и недостатки современной государственно - политической и общественной жизни". Пороки же видят такие: "гей-парады содомитов, разрешение абортов и эвтаназии, вакцинацию, алкоголизм, наркоманию". Всех, кто в перечисленных пороках замечен, авторы письма призывают "отлучать от церкви". А упрек в «одобрении демократии», высказанный в первом письме, теперь дополнен требованием "не приветствовать демократию как политическую систему, противоречащую церковному учению о законной, Богом данной власти" (под богоугодной властью подразумевается монархия). Это знаменательное добавление появилось, возможно, потому, что письмо на сей раз появилось на монархическом сайте «Мысли о России», изобилующем заголовками типа «Звериный оскал демократии», «Почему русские хотят Лукашенко» и ставящем своей целью работать на возрождение РОССИИ (именно так на сайте, со специальной пометкой — не "РФ"!), каковое возможно лишь при «БОЖЕСТВЕННОЙ форме правления, православной монархии, что, в свою очередь, приведет к расцвету здоровой экономики». Остается загадкой, кто входит в редакцию интернет-портала, но по обилию на сайте статей Константина Душенова и призывов подписать «Письмо 5000» можно сделать вывод, что это все то же радикальное крыло православных фундаменталистов, которое с таким старанием пропагандировало февральское обращение епископа Диомида. И где, теперь уже можно сказать это с определенностью, епископ Диомид нашел верных союзников и помощников, готовых нести «городу и миру» его сокровенные мысли (не исключаю, что изрядно дополненные их собственными представлениями о должном и недолжном).
Общественность взбудоражена очередным письмом епископа Диомида. Замечу, что, в основном, не православная общественность, которой по идее и полагалось бы быть взбудораженной (она лучше понимает цену подобным посланиям), а светские СМИ, снова всерьез перечисляющие выдвинутые Диомидом и братией обвинения в адрес Русской православной церкви. Обвинения все те же. Правда, чуть более распространенные. Как водится, осуждается экуменизм: "стремление объединить все веры в одну религию", как говорится в письме. Чукотские батюшки просят также Алексия II "более решительно и конкретно обличать пороки и недостатки современной государственно - политической и общественной жизни". Пороки же видят такие: "гей-парады содомитов, разрешение абортов и эвтаназии, вакцинацию, алкоголизм, наркоманию". Всех, кто в перечисленных пороках замечен, авторы письма призывают "отлучать от церкви". А упрек в «одобрении демократии», высказанный в первом письме, теперь дополнен требованием "не приветствовать демократию как политическую систему, противоречащую церковному учению о законной, Богом данной власти" (под богоугодной властью подразумевается монархия). Это знаменательное добавление появилось, возможно, потому, что письмо на сей раз появилось на монархическом сайте «Мысли о России», изобилующем заголовками типа «Звериный оскал демократии», «Почему русские хотят Лукашенко» и ставящем своей целью работать на возрождение РОССИИ (именно так на сайте, со специальной пометкой — не "РФ"!), каковое возможно лишь при «БОЖЕСТВЕННОЙ форме правления, православной монархии, что, в свою очередь, приведет к расцвету здоровой экономики». Остается загадкой, кто входит в редакцию интернет-портала, но по обилию на сайте статей Константина Душенова и призывов подписать «Письмо 5000» можно сделать вывод, что это все то же радикальное крыло православных фундаменталистов, которое с таким старанием пропагандировало февральское обращение епископа Диомида. И где, теперь уже можно сказать это с определенностью, епископ Диомид нашел верных союзников и помощников, готовых нести «городу и миру» его сокровенные мысли (не исключаю, что изрядно дополненные их собственными представлениями о должном и недолжном). Как обычно ведет себя и Московская патриархия, уже обвинившая ревнителей православия в политиканстве и в очередной раз пообещавшая «в ближайшее время» дать письму официальную оценку (ответа на первое письмо не последовало до сих пор — быть может, теперь церковное руководство наконец решится на ответ: дальнейшее молчание будет выглядеть более чем странно). Зато от акции недвусмысленно отмежевался архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин, упомянутый в конце письма как единомышленник и сторонник. Через пресс-службу Владивостокской епархии он сообщил, что "никакого отношения к данному документу не имеет".
Рассматривать претензии чукотского епископа по существу кажется мне еще более бессмысленным, чем в первый раз, поскольку, на мой взгляд, владыка Диомид сам дезавуирует себя в качестве борца и за «каноническую чистоту», и против сервилизма церковных властей. Прежде чем бороться за чистоту, неплохо было бы, как мне кажется, разобраться с «единым Творцом», а негодовать на «государственно-политическую и общественную жизнь», не видя в ней зла, страшнее вакцинации, и утверждать, что в России уже разрешена эвтаназия, и вовсе смехотворно. Что же касается абортов, алкоголизма и наркомании, то это прямая недоработка епископа Диомида и иже с ним — так что нечего валить с больной головы на здоровую.
Однако письмо, пусть и в неявной форме, говорит нам о важных процессах, идущих в церкви. И даже не столько о том, что там крепнут фундаменталистские настроения: те старания, которые прилагают всяческие «душеновцы», чтобы эти настроения раздуть и явить обществу, говорят скорее об обратном. Гораздо в большей степени, как мне представляется, письмо говорит о том, что внутри воссоединившейся с зарубежниками церкви началась яростная борьба «за зарубежников».
Как уже не раз говорилось, разные силы и в РПЦ, и в среде православной общественности связывают с «зарубежным прибытком» прямо противоположные надежды. Некоторые надеются, что объединение послужит оздоровлению церковной институции, будет всемерно способствовать превращению ее в «церковь для народа», тогда как сейчас Московская патриархия все еще слишком часто ведет себя как «церковь для власти». Синодальное прошлое, конечно, у обеих ветвей православия общее, однако у РПЦЗ(Л) есть опыт жизни в демократических странах, на который, собственно, и уповают сторонники, скажем так, «демократической соборности». Не те мечты у консерваторов, тем более у фундаменталистов, которые тоже вроде бы ратуют за соборность, но им эта соборность чаще всего нужна не для того, чтобы восторжествовал божественный идеал, христианская идея — а, например, как в данном случае, для торжества «БОЖЕСТВЕННОЙ православной монархии» или, того пуще, «БОЖЕСТВЕННОГО православного социализма». Мечты их, как правило, не о Церкви, несмотря на все инвективы в адрес «теплохладных».
В РПЦЗ(Л) тоже бродят разные настроения. Вот за пополнение своих рядов за счет зарубежных союзников и идет борьба. И, как видим, нешуточная.