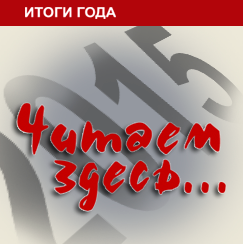Суд в погонах
Суд в погонах

Поскольку поправки будут приняты и скоро, после подписания президентом, вступят в силу (в день официального опубликования), стоит все-таки сохранить для памяти интригующую и запутанную историю их появления. Дело было так.
4 сентября 2009 года Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предполагалось, что уголовное дело о преступлении террористического и экстремистского характера может быть передано для рассмотрения из местного суда в Верховный суд РФ, если существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников или близких лиц. В принятом законопроекте в списке статей УК фигурировала и печально знаменитая 282 статья (в просторечии – «экстремистская»), которая уже несколько лет как стала универсальным «карательным инструментом широкого профиля».
25 сентября Госдума приняла закон в первом чтении, несмотря на то, что он противоречит законной возможности для подсудимого обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
На этот казус вовремя обратили внимание, и 19 ноября на встрече Медведева с Грызловым последний предложил вместо Верховного суда передавать дела в окружные военные суды, при наличии ходатайства Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя. Кроме того, было предложено вернуть участие в судах присяжных заседателей, правда, не по всем указанным статьям.
16 декабря законопроект были принят ГД во втором чтении. Однако в нем не только заменили Верховный суд на военные суды, куда теперь могут быть отправлены для рассмотрения дела по преступлениям террористической и «антигосударственной» направленности, но и – сюрприз! – убрали 282 статью. Это было сделано очень неожиданно, поскольку ни одного упоминания об этом нигде нет и никакой публичной дискуссии на этот счет не было.
На самом деле исчезновение из данного законопроекта 282 статьи – большая победа каких-то внутренних, теневых, не известных общественности сил не то в Администрации, не то в Думе. Уж не знаю, кому надо говорить спасибо, но факт налицо. Ведь в последнее время обвинения по 282 статье УК используют в первую очередь против политической оппозиции, правозащитников, журналистов, блогеров, всех тех, кто критикует власть и режим. Под 282 статью подпадают широкие списки книг, сайтов, фильмов и целые общественные и политические организации. По 282 сидят в тюрьмах многие члены бывшей НБП. Несколько недель назад татарстанский блогер и журналист Ирек Муртазин отправился отбывать наказание в колонию на 1 год и 9 месяцев именно по 282-ой статье за запись в своем блоге. Примеров много, они вопиющи, но применение 282 статьи для борьбы с инакомыслием и свободомыслием только ширится, а у МВД растут показатели «экстремистских проявлений». То, что 282-ая выпала из текста принимаемых поправок – большой плюс.
Итак, 23 декабря в третьем чтении будут приняты поправки, согласно которым граждан, обвиняемых в терроризме и некоторых других преступлениях, будут судить не в гражданских, а в военных судах.
Однако эти новации все равно оставляют много вопросов. Почему именно военные суды? В законе о военных судах четко сказано, чем они занимаются: «Осуществляют судебную власть в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба». Почему дела гражданских лиц будут рассматриваться в военных судах? Ведь террор направлен чаще всего против обычных граждан, значит, и судить должны гражданские суды. Военные суды всегда рассматривали дела, связанные исключительно с Вооруженными силами, причем же здесь люди сугубо гражданские? Почему преступления по статьям, затрагивающим государственную власть, будут рассматриваться в военных судах? У нас у власти вроде пока не военная диктатура.
Давайте посмотрим, что такое сегодня военный суд. Частично военные судьи являются действующими офицерами. Другая часть военных судей – это или военнослужащие в отставке, или приостановившие свою военную службу. В этом отношении говорить о независимости и беспристрастности таких судей достаточно проблематично. Как поведет себя судья при рассмотрении дела, если он находится на службе или если ему еще предстоит на нее вернуться? У профессиональных военнослужащих зачастую вообще существуют другие, отличные от «гражданских», ценностные установки, что, безусловно, может сказаться и на качестве правосудия.

Что мы получим на практике после принятия этих поправок, с точки зрения, например, потерпевших в терактах? В течение почти двух лет я присутствовала на крупнейшем суде по рассмотрению акта терроризма в Беслане, на котором судили участника банды Нурпаши Кулаева. Суд проходил в Верховном суде республики Северная Осетия-Алания во Владикавказе. Этот опыт дает мне основания утверждать, что перенос судов по терроризму ухудшит качество правосудия с точки зрения участия в нем самих потерпевших и свидетелей. Несмотря на то, что Беслан находится всего в получасе езды от Владикавказа, даже в этой ситуации были сложности с приходом потерпевших-бывших заложников на суд. Во-первых, многие были ранены, и даже поездка в «город» вызывала проблемы. Кроме того, жители Беслана иногда просто не могли заплатить за поездку в маршрутке, чтобы доехать до Владикавказа, поскольку многие живут бедно. Именно на этом суде стало понятно – свидетельские показания в суде бывших заложников в корне меняют версию, изложенную прокуратурой и «официозом». Дело не в оправдании террористов, дело в полноценном судебном разбирательстве, позволяющем участвовать в нем самим потерпевшим. У участвующих в суде матерей, потерявших своих детей в бесланской школе, не было сочувствия к Кулаеву, но они хотели правосудия и правды, а не «показательного процесса над террористом».
Если бы суд над Кулаевым шел уже при планируемых поправках, то он бы наверняка проходил не во Владикавказе, а в окружном военном суде в Ростове-на-Дону, до которого потерпевшим не доехать. Редким решившимся пришлось бы селиться в Ростове-на-Дону, иначе они не смогли бы присутствовать на процессе в ежедневном режиме в течение почти двух лет, пока шел процесс. А ведь теперь, после принятия поправок, все дела о терактах, совершенных на территории кавказских республик, имеют шансы рассматриваться именно в Ростове-на-Дону.
То, что для потерпевших и свидетелей по делам о терактах принципиально важным является проведение суда в территориальной доступности, а не в условиях экс-территориальности, как сейчас предлагается, подтверждают и другие наблюдения. Районный суд города Беслана рассматривал дело милиционеров местного РОВД, обвиняемых в халатности, которая привела к теракту и гибели людей. Я присутствовала и на этом суде. К моему удивлению, на него пришли бывшие заложники и свидетели, которые не участвовали в суде над Кулаевым во Владикавказе. Они объяснили это или плохим самочувствием, не позволявшим ездить в другой город, или тем, что не знали о процессе. Буквально «пешая доступность» до суда внутри города Беслана позволила потерпевшим принять участие в установлении законности и правосудии.
Был еще один суд – над ингушскими милиционерами, также обвиняемыми в халатности, приведшей к теракту в Беслане. Суд над ними был перенесен из республики Ингушетия в соседнюю республику, Кабардино-Балкарию, в город Нальчик, поскольку потерпевшие осетины не хотели ездить в Ингушетию. В результате на этот суд из потерпевших ездили только единицы и то не всегда, поскольку расстояние составляет 100 километров по не очень хорошей дороге.
Стоит отдельно сказать и про те условия переноса рассмотрения дела в военный суд, которые описывает рассматриваемый законопроект. Сейчас в законопроекте они описываются так: «По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя … если существует реальная угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц».
Понятно, что в первую очередь речь идет о судьях и прокурорах. Однако, на моей памяти, проклятьям (не угрозам) со стороны потерпевших или подсудимых подвергались как раз те судьи и прокуроры, которые принимали или поддерживали незаконные и неправосудные решения. Или которые в процессе судебного рассмотрения ущемляли и нарушали права потерпевших или подсудимых.
Я не знаю о реальной статистике угроз судьям со стороны террористических групп, но для меня очевидно, что условие, описанное как «реальная угроза», позволяет совершенно произвольно заявлять о его наличии. Что мешает прокурору сообщить, что ему поступил анонимный звонок с угрозами и он просит перенести суд в военный? А если судья или прокурор одновременно участвует в нескольких процессах и получает такую угрозу – мы все суды будем переносить в окружной военный?
Пока, к счастью, глава Верховного суда Лебедев говорит, что ходатайство о переносе рассмотрения дела «не должно быть голословным. Прокуратура должна подтвердить его доказательствами, в отношении кого и от кого есть угрозы». Однако, зная практику работы прокуратуры, берусь утверждать, что все может ограничиться описанием угроз «от неустановленных лиц в неустановленном месте».
У сторонников новых поправок в УПК есть еще один аргумент. Главный спикер и, как говорят, автор указанных поправок Павел Крашенинников считает, что их принятие «позволит, с одной стороны, оградить свидетелей и потерпевших от давления со стороны соучастников и родственников подсудимых, а с другой — обеспечить непредвзятое и объективное рассмотрение дела и воздать террористам по заслугам». Крашенинников сосредотачивается именно на терроризме, потому что здесь проще всего получить общественную поддержку. Однако я сомневаюсь, что этот аргумент осмысленный: получается, что гражданские суды не могут «обеспечить непредвзятое и объективное рассмотрение дела и воздать террористам по заслугам»? К тому же, число случаев давления на свидетелей и потерпевших со стороны соучастников террористических преступлений ничтожно мало. Публике значительно более хорошо известны случаи давления на свидетелей и потерпевших именно со стороны различных силовых органов.
Возможно, что одна из причин внесения поправок в УК – в очень небольшом, но напрягающим власти числе оправдательных или частично-оправдательных приговоров гражданских судов на территории Северного Кавказа, которые получали обвиняемые в терроризме. Обычно это происходило с участием присяжных. Однако присяжных собираются вернуть теперь уже в военные суды. Как они там смогут работать, и из кого они будут набираться?
Подводя итог, еще раз подчеркну: введение новой нормы не улучшит правосудие, а только ухудшит. Налицо, например, нарушение прав потерпевших на участие в судебном рассмотрении. Но главная опасность состоит в том, что данные поправки в УК – это первых шаг к расширению компетенции военных судов над гражданами и гражданскими преступлениями. А это – шаг в неправильном направлении.
Фотографии РИА Новости