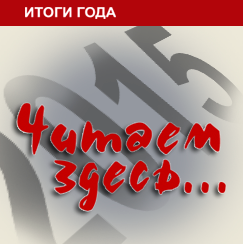Читать по-русски: лучшее в литературе за 2005 год
Читать по-русски: лучшее в литературе за 2005 год

На литературу сегодня принято смотреть с трех разных точек зрения. Кто-то предпочитает видеть в ней не более чем одну из областей шоу-бизнеса, живущую по таким же законам, что и, скажем, поп-музыка или телевидение. Кому-то приятнее загонять все происходящее в жесткую логическую схему, высматривая в книжном лабиринте определенные направления и тренды. А кто-то (и таких, смею думать, большинство) воспринимает литературу с позиции сугубо «пользовательской» — как совокупность отдельных книг, в той или иной мере пригодных для чтения. Впрочем, с какой бы стороны ни взглянуть на литературную ситуацию в 2005 году, материал для размышлений она представляет весьма достойный.
 Если рассматривать литературу и книгоиздательство с точки зрения сугубо рыночной, коммерческой, то уходящий год, безусловно, должен войти в историю как год Оксаны Робски. Сегодня в это трудно поверить, однако придуманный ею книжный проект «Рублевка» действительно стартовал меньше года назад. Мог ли кто-нибудь из тех, кто в прошлом январе, мучительно шевеля губами, разучивал трудное слово Casual, предположить, что всего через одиннадцать месяцев романов у шустрой дебютантки будет уже три, а их суммарный тираж перевалит за 200 000 экземпляров (цифра по нынешним временам астрономическая)? Но оставим кесарю кесарево: лихая затея Оксаны Робски к литературе как таковой отношения не имеет, и поэтому, воздав ей должное как беспрецедентно удачному маркетинговому эксперименту, перейдем к другим темам.
Если рассматривать литературу и книгоиздательство с точки зрения сугубо рыночной, коммерческой, то уходящий год, безусловно, должен войти в историю как год Оксаны Робски. Сегодня в это трудно поверить, однако придуманный ею книжный проект «Рублевка» действительно стартовал меньше года назад. Мог ли кто-нибудь из тех, кто в прошлом январе, мучительно шевеля губами, разучивал трудное слово Casual, предположить, что всего через одиннадцать месяцев романов у шустрой дебютантки будет уже три, а их суммарный тираж перевалит за 200 000 экземпляров (цифра по нынешним временам астрономическая)? Но оставим кесарю кесарево: лихая затея Оксаны Робски к литературе как таковой отношения не имеет, и поэтому, воздав ей должное как беспрецедентно удачному маркетинговому эксперименту, перейдем к другим темам.
Если говорить о значимых литературных трендах, то таковых за прошедший год наметилось два. Первый можно с некоторой долей условности окрестить «путинским»: количество романов, сказок, эпосов и даже драм, посвященных президенту, поистине зашкаливает. Юлий Дубов и Дмитрий Быков, Максим Кононенко и Сергей Доренко, уж не говоря об Александре Проханове, Андрее Колесникове и Андрее Куркове, расширяют литературную «путиниану» с редким усердием и азартом. Заполняя информационный вакуум, возникший вокруг политических тем в СМИ, литераторы принялись наперебой предлагать свои — зачастую совершенно фантастические и бредовые — гипотезы происходящего в высших эшелонах власти. «Путин — президент США» (Быков), «Путин — милый недоумок» (Кононенко), «Путин — рехнувшийся даос» (Доренко) — все эти далекие от канонического образы главы государства призваны оттенить бесцветную и не поддающуюся никакой интерпретации пропаганду, льющуюся с телеэкранов. Если дело и дальше пойдет в том же духе, то уже в следующем году нам следует ожидать «Путина-Спайдермэна», «Путина с рогами и хвостом», а то и «Путина – Королеву Фей» в розовом платьице и с прозрачными крылышками за спиной.
Второй существенный тренд — заметное укрепление позиций популярной нехудожественной литературы. Если раньше, подводя итоги года, хорошего качества нон-фикшн приходилось буквально выскребать по сусекам, то теперь дело обстоит совершенно иначе. Захиревшая было серия «Культура повседневности» издательства «НЛО» под конец года взорвалась в высшей степени занимательной книгой Линор Горалик «Полая женщина: мир Барби изнутри и снаружи», с очаровательной легкостью препарирующей фобии и подспудные желания человечества в их проекции на тридцатисантиметровую пластиковую красотку. Издательство «Время» выпустило остроумный и познавательный сборник лекций музыкального критика Артемия Троицкого «Я введу вас в мир... поп», повествующий о сложном внутреннем устройстве мира отечественной попсы. «КоЛибри» запустило новый проект, озаглавленный «Вещи в себе», — пока что в этой стильно оформленной серии вышло три книжки, по меньшей мере две из которых («Роман с бабочками» Шарман Эпт Рассел и «Порох» Джека Келли) могут служить просто-таки эталоном развлекательного нон-фикшна. И даже издательство «ЭКСМО», редко обращающее свой благосклонный взор на нехудожественный сектор, выдало под конец года мощнейшие мемуары рок-иконы Боба Дилана в отличном переводе Максима Немцова. Список можно продолжать едва ли не до бесконечности, однако остановимся на этом. Очевидно, что, хотя классическое западное соотношение между нехудожественным (65%) и художественным (35%) сегментами книжного рынка в России пока не достигнуто, ощущение, что определенное движение в этом направлении наконец наметилось, становится все более и более отчетливым.
 Впрочем, немало интересного происходит и за пределами этих двух базовых направлений. Если бы назвать главную книгу 2005 года попросили меня, после некоторых колебаний я бы выбрала «Золото бунта» Алексея Иванова (СПб.: Азбука, 2005). Этот великолепный исторический роман (действие его происходит в XVIII веке, на уральской реке Чусовой) представляет собой редчайший и поэтому особенно ценный образчик сложной и по-настоящему высоколобой литературы, способной тем не менее вызывать интерес у широкого читателя благодаря динамичной интриге и немыслимому уральскому антуражу, более всего похожему на атмосферу толкиеновской трилогии, но при этом совершенно документальному и достоверному.
Впрочем, немало интересного происходит и за пределами этих двух базовых направлений. Если бы назвать главную книгу 2005 года попросили меня, после некоторых колебаний я бы выбрала «Золото бунта» Алексея Иванова (СПб.: Азбука, 2005). Этот великолепный исторический роман (действие его происходит в XVIII веке, на уральской реке Чусовой) представляет собой редчайший и поэтому особенно ценный образчик сложной и по-настоящему высоколобой литературы, способной тем не менее вызывать интерес у широкого читателя благодаря динамичной интриге и немыслимому уральскому антуражу, более всего похожему на атмосферу толкиеновской трилогии, но при этом совершенно документальному и достоверному.
Если «Золото бунта» занимает позицию промежуточную, где-то на стыке интеллектуального и массового чтива, то второй крупнейший роман уходящего года – «Венерин волос» Михаила Шишкина (М.: Вагриус, 2005), – безусловно, тяготеет к элитарности. Бесконечно сложная, многосоставная, многоголосая и завораживающе красивая история русской жестокости, увиденной глазами переводчика в швейцарской благотворительной организации, ответственной за прием беженцев из бывшего СССР, едва ли сгодится в качестве развлекательного чтива «под елочку», однако наверняка относится к категории книг, по которым лет через сто люди будут судить о нашем времени.
По другую сторону от «Золота бунта», на территории сугубо попсовой, расположился главный отечественный развлекательный проект года — «Одиночество-12» Арсена Ревазова, первый и на сегодняшний день единственный образец отечественного конспирологического триллера, скроенного в строгом соответствии с самыми модными импортными лекалами. От зарубежных аналогов «Одиночество-12» отличает одна в высшей степени значимая черта, а именно герои — живые, узнаваемые и интеллигентные. Подвиг дебютанта Ревазова трудно переоценить: одним непринужденным ударом он не только вернул мяч на половину Харуки Мураками, Дэна Брауна и Артуро Переса-Реверте, но и создал важнейший прецедент, наглядно продемонстрировав, что опыт иностранных производителей хорошего развлекательного чтива отлично может быть привит к хлипким осинам отечественной интеллектуальной словесности.
В разделе «ретро» совершенно необходимо упомянуть сборник Виктора Пелевина «Relics: раннее и неизданное». Даже человек, совершенно охладевший к Виктору Олеговичу после «ДПП(NN)», едва ли сможет противостоять термоядерному обаянию этой книги. Что бы ни происходило с Пелевиным в дальнейшем, место на литературном Олимпе он себе надежно забронировал, в том числе эссе и рассказами, вошедшими в «Relics» и относящимися к золотой поре его творчества — ранним 90-м.
Если говорить о переводных книгах, то здесь особого упоминания заслуживают две. К 60-летию победы издательство «Фантом-Пресс» выпустило очередной роман английского комика, телеведущего и литератора Стивена Фрая «Как творить историю». В своей обычной обманчиво-легкомысленной манере Фрай исследует темы по-настоящему глубокие и болезненные – и в первую очередь относительность любого, даже самого абсолютного на первый взгляд, зла. Насильственно устранив из истории ХХ века Гитлера и все связанное с его именем, герои романа — молодой историк и пожилой физик — попадают в альтернативную историческую реальность, по сравнению с которой Освенцим и Бухенвальд кажутся еще далеко не худшим вариантом.
Второй импортный проект, заслуживающий всяческого внимания, это сразу две книги нобелевской лауреатки Тони Моррисон, появившиеся наконец на русском языке («Возлюбленная», «Любовь», М.: Иностранка, 2005). Не поддавайтесь соблазну усмотреть в решении Нобелевского комитета, наградившего в 1994 году писательницу-афроамериканку, грех излишней политкорректности: в отличие от очень и очень многи, Моррисон своего «нобеля» заслужила совершенно честно. Трудно поверить, что исторические романы (действие «Возлюбленной» разворачивается в 60-е годы XIX века, «Любви» — в 50-е века ХХ), описывающие совершенно чужую нам реальность и буквально кишащие разного рода фантомами и призраками, могут вызывать настолько сильную эмоциональную реакцию. И тем не менее это так: назвать романы Тони Моррисон приятным чтением язык не поворачивается, однако чувство контакта с по-настоящему великой литературой редко бывает более острым.
 Разумеется, всем перечисленным литературная жизнь прошедшего года далеко не исчерпывается. Джоан Роулинг выпустила очередного — шестого по счету — «Гарри Поттера». Владимир Сорокин завершил свою «ледяную» трилогию — роман «23000» расставил точки над всеми i, обозначенными в «Пути Бро» и «Льде». Дмитрий Быков опубликовал сразу две книги — печально-язвительный любовный роман «Эвакуатор» и фундаментальную биографию Бориса Пастернака в серии ЖЗЛ. Целая серия гламурно-глянцевых персонажей — от Владимира Соловьева до Ксюши Собчак и от Юлии Бордовских до Ирины Чащиной – попробовали свои силы в литературе — честно сказать, с успехом, далеким от переменного. Борис Акунин дал одновременный залп сразу из трех орудий, опубликовав в начале весны три вещи, объединенные проектом «Жанры» — «Детскую книгу», а также «Шпионский» и «Фантастический» романы. Мало кому до той поры известный Денис Гуцко нежданно-негаданно получил Букеровскую премию, фактически «проснувшись знаменитым», а далекий от литературной коммерции и весьма титулованный Михаил Шишкин — премию «Национальный бестселлер», собственно, призванную разыскивать и вознаграждать таланты. Словом, произошло много всего интересного — и хорошего, и странного, и откровенно плохого. Сказать эту ритуальную фразу удается далеко не каждый год, а следовательно, жаловаться на год уходящий нет ни малейших оснований — по крайней мере в том, что касается литературы.
Разумеется, всем перечисленным литературная жизнь прошедшего года далеко не исчерпывается. Джоан Роулинг выпустила очередного — шестого по счету — «Гарри Поттера». Владимир Сорокин завершил свою «ледяную» трилогию — роман «23000» расставил точки над всеми i, обозначенными в «Пути Бро» и «Льде». Дмитрий Быков опубликовал сразу две книги — печально-язвительный любовный роман «Эвакуатор» и фундаментальную биографию Бориса Пастернака в серии ЖЗЛ. Целая серия гламурно-глянцевых персонажей — от Владимира Соловьева до Ксюши Собчак и от Юлии Бордовских до Ирины Чащиной – попробовали свои силы в литературе — честно сказать, с успехом, далеким от переменного. Борис Акунин дал одновременный залп сразу из трех орудий, опубликовав в начале весны три вещи, объединенные проектом «Жанры» — «Детскую книгу», а также «Шпионский» и «Фантастический» романы. Мало кому до той поры известный Денис Гуцко нежданно-негаданно получил Букеровскую премию, фактически «проснувшись знаменитым», а далекий от литературной коммерции и весьма титулованный Михаил Шишкин — премию «Национальный бестселлер», собственно, призванную разыскивать и вознаграждать таланты. Словом, произошло много всего интересного — и хорошего, и странного, и откровенно плохого. Сказать эту ритуальную фразу удается далеко не каждый год, а следовательно, жаловаться на год уходящий нет ни малейших оснований — по крайней мере в том, что касается литературы.